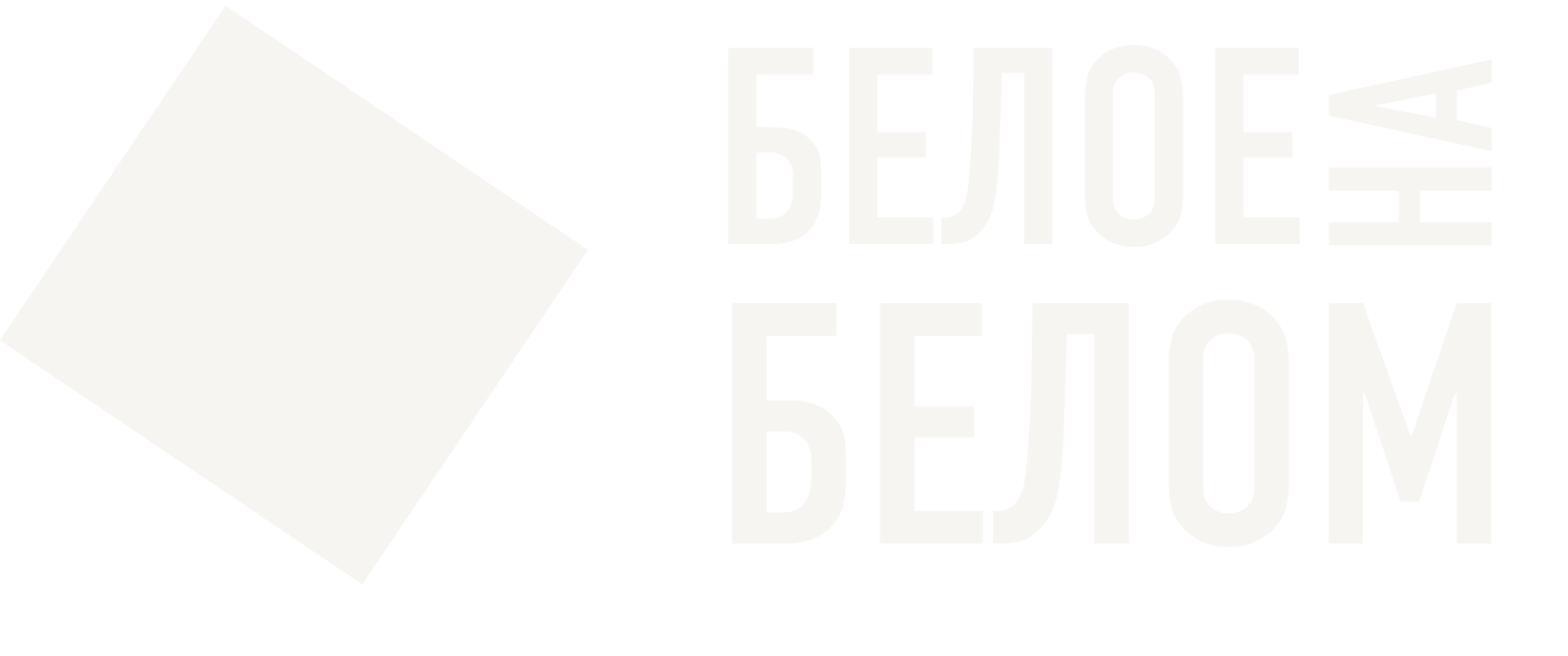Алексей Сальников: античные мемы, токсичный Достоевский и Петров в Оккульттрегере
Алексей Сальников — один из известнейших писателей России, удостоенный премий «НОС» и «Национальный бестселлер». Его книги — «Петровы в гриппе и вокруг него», «Оккульттрегер», «Отдел», «Опосредованно» — читают и в нашей стране, и за рубежом. По его роману режиссёр Кирилл Серебрянников снял фильм «Петровы в гриппе», премьера которого прошла на Каннском фестивале.
Специально для «белого на белом» Алексей Сальников дал большое интервью, в котором рассказал о создании своих произведений, детстве, любимых классических авторах и взгляде на мир.
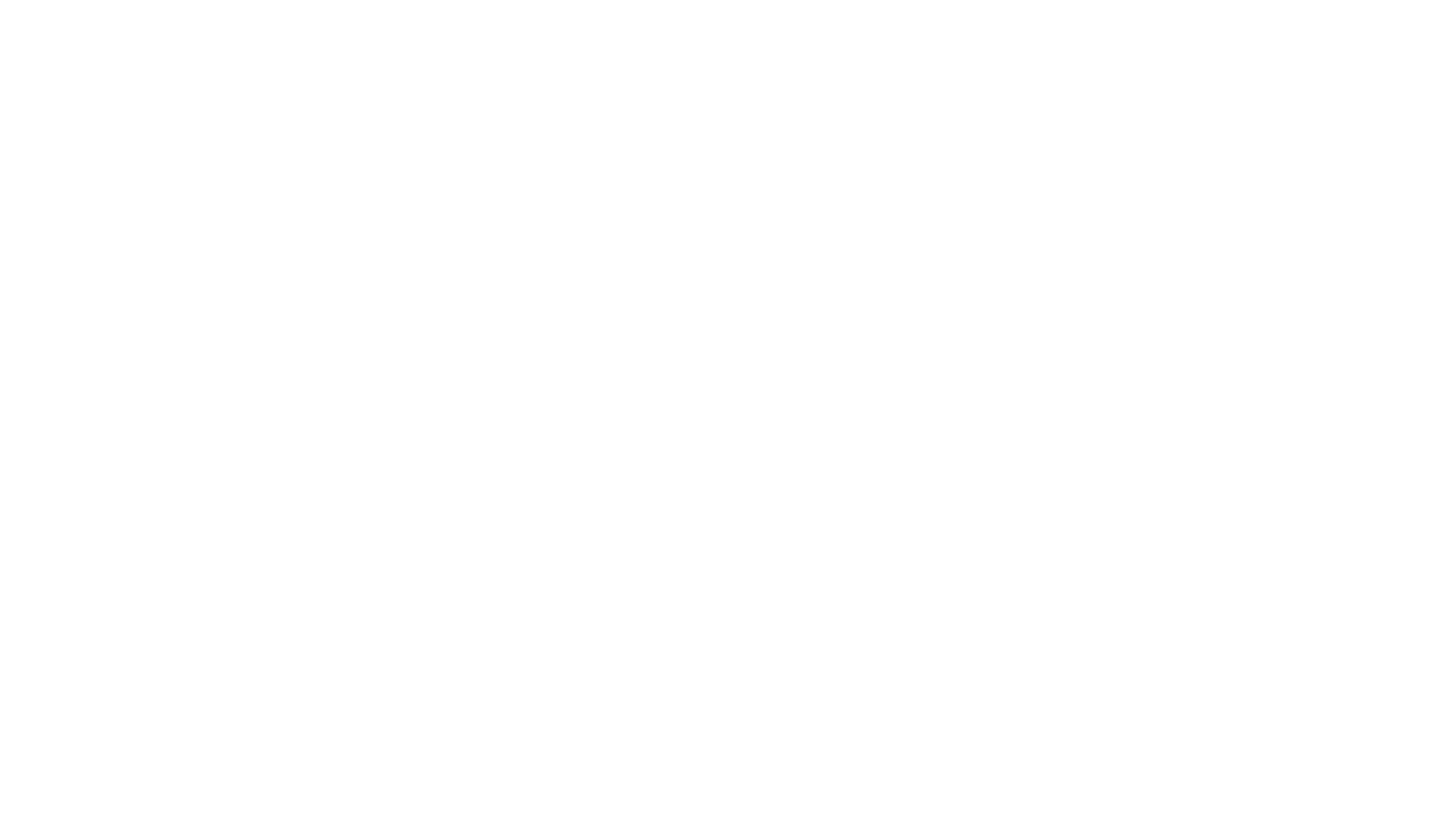
— Почему сейчас люди вообще читают книги? Если нам нужен острый сюжет — у нас есть фильм. Если нам нужно порефлексировать — можно блогерские посты почитать. Реальность можно в новостях посмотреть. Хотим куда-то погрузиться — можно в VR поиграть.
— Видимо, люди чувствуют, что литература — это наиболее честный способ доносить мысли одного человека до другого. Это кристаллизованный способ, в нём нет ничего лишнего. Когда мы читаем книгу, мы даже не знаем порой, как автор выглядит, сколько ему лет и всё такое. Потом уже начинаем интересоваться биографией. А так мы просто сравниваем своих современников и тех, кто жил до нас, с нашими мыслями. По-моему, это наиболее честный способ доносить не столько мысли, сколько мышление или реакцию на происходящее.
.— Читать — это вообще популярно или нет?
— Вполне. Мне кажется, аудиокниги сделали чтение более расслабляющим занятием, чем раньше. Если раньше это было просто связано с логистикой: можно было книгу забыть, выходя из дома, оставить её в транспорте, на работе, да и она занимает место в кармане, на ходу её не почитаешь, а теперь книгу можно почитать везде. Раньше это просто было немыслимо.
— Клиповое мышление, видосики по 15 секунд, монтажные склейки мешают развитию литературы или нет?
— Литература такая и будет дальше, потому что следующее поколение, ваше, как бы сейчас не сопротивлялись моего возраста и старше, будет право. За вами не столько правота, сколько логика жизни.
Вы будете жить дольше, дальше, чем мы, поэтому, как вы говорите, как вы думаете, так и окажется в будущем.
А потом посмотрим, что вас будет раздражать в новом поколении. Меня даже, собственно, удивляет, насколько у меня самого поменялось мышление вследствие таких изменений. Мне как-то попался фильм “Матрица” (в гостинице, что ли). В 2000-х он казался очень динамичным фильмом, а сейчас его невозможно смотреть, потому что это очень медленное кино… Мне кажется, они очень долго разговаривают, ещё и драки у них всех очень замедленные. Там очень много медленного, это выбешивает!
— А как тогда смотреть Тарковского?
— А почему-то он как-то работает. Он не на этом заточен, изначально такой. А всё-таки “Матрица” была как бы динамичной, теоретически. Время её поставило на своё место.
— Вам приходится адаптировать свой язык и стиль под быстрое мышление?
— Я пишу так, как пишу. Я, скорее, себя иногда ловлю на том, что ленюсь и ловлю языковую конструкцию, понятную себе, а когда перечитываю уже как читатель, думаю: “Нет, ты чё-то тут перемудрил”. И сбавляешь обороты. Это к самому себе при перечитывании относится, нежели к читателю. У меня, скорее, увлекает просто идея какая-то. В этот момент ни о ком вообще не думаешь, только о собственном развлечении.
— Вы во время редактуры очень самокритичны?
— Редакторская работа должна принадлежать именно редактору, а не автору, потому что автор себя исправлять не может. Он проваливается в те же ошибки, которые ему свойственны. А редактор как сторонний читатель — важное дело.
— Как происходит работа с редактором? Вы отправляете текст…
— А он в ответ присылает рукопись с какими-то заметками, и вы соглашаетесь или нет. Я объясняю свою позицию по правкам, с которыми я не согласен. Текст всё равно публикуют.
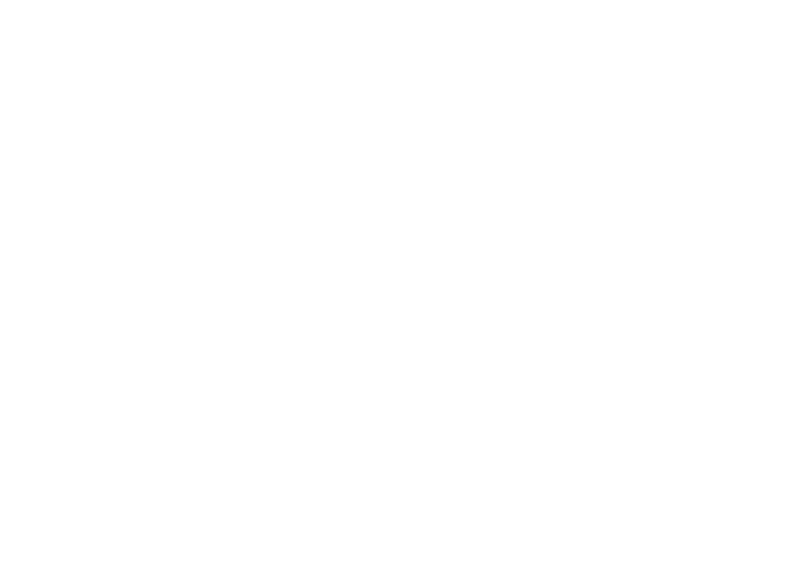
— Как вы думаете, почему в современной литературе так много всего странного и хтонического? Откуда такая тенденция появилась?
— Почему же? Сейчас масса разной литературы. Её просто так не охватить взглядом. Появилось множество других текстов, которые оказываются на виду, потому что перед автором сейчас не стоит граница публикаций. Раньше,чтобы быть прочитанными другими людьми, нужно было или на кухне читать, или отдавать рукопись свою, или публиковаться в каком-то литературном журнале. А сейчас любой человек выкладывает в сеть текст, и у него есть шанс быть прочитанным. Даже любое замечание по поводу любых событий так или иначе окажется на виду, и, может быть, из-за этого возникает иллюзия обилия текстов. Когда не было магических историй, были страшные истории, которые и взрослые, и дети друг другу рассказывали по вечерам. Людям кажется, что всё не просто так.
— Но лучше продаются и находятся в топе те книги, где есть элемент непонятного. Или, как часто пишут о ваших книгах, “наркотический трип” внутри истории.
— Я не знаю, как продаются одни книги и другие. Я не в курсе. Мне кажется, если брать все книги, которые выходят, художественную литературу далеко оставляют позади, а больше любят книги по саморазвитию. Так что люди больше озабочены собой, чем какими-то вещами. И это нормально!
— Вы в разных интервью сравниваете себя с разными авторами прошлого. Например, вы говорили: “Я по пути Достоевского пошёл”. С Салтыковым-Щедриным вы себя сравнивали. Когда я читал ваши книги, то я увидел элементы разных авторов. Вы сознательно или бессознательно сочетаете приёмы классиков?
— Всё-таки бессознательно. Отчасти, когда я с Чеховым основательно столкнулся, мне такой способ изложения показался крайне удачным, и я пытался перенести его к себе. Но не знаю, насколько можно засчитать эту попытку.
— В организации своего текста у вас много от Гоголя.
— Эти развернутые метафоры? Возможно, понахватался.
— Как рождаются литературные приёмы, которые вы используете?
— Пишешь и думаешь: “Вот просится какое-то описание!” И ты оглядываешь окрестности текста, смотришь, что там может быть. Иногда не хватает, чтобы герой чего-нибудь сказал. Ну, это такое внутреннее чувство, оно, наверное, у всех развито.
— Как вы представляете, откуда берутся образы?
— Скорее всего, они берутся из реальности. Просто обрабатываются неким сновидческим, визионерским способом. Но браться же не могут только из реальности, из снов. Получается, что из неоткуда. Из нашей Вселенской пустоты. Это вообще непонятно. Откуда замысел берётся? Это обработанная неким слоем мозга реальность, подкинутая в виде сюжета. Почти всегда сразу готовая. Я не импровизирую, когда пишу текст, я всегда точно знаю, что там будет происходить. Замысел возникает сразу почти всегда. А если не возникает, то над ним приходится работать, то есть валять дурака и думать: “Вот тут как-то неинтересно”.
— Есть очень популярный совет для начинающих писателей: брать сюжет и рисовать себе схему. Вы так делаете?
— Кому-то так удобнее. Лишь бы текст написался. Можно короткий план составить, можно схему. Мне важным кажется именно конечный замысел и знание всего про героев, прежде чем сесть писать. Иначе не возникает глубины текста: ведь до этих событий как-то история дошла, герои до них как-то доползли. Они не из пустоты возникли. До того, как читатель взял в руки книгу, они уже существовали. Некий бэкграунд у каждого героя так или иначе присутствует, уже готовый.
— Какой бэкграунд у Прасковьи в «Оккульттрегере»?
— Как у культуры, собственно говоря. Это как бы культура, если бы она была человеком.
Такое восприятие культуры сорокалетними-пятидесятилетними людьми, со всеми советскими фильмами, с каким-то пионерским и октябрятским детством, с тёплым отношением к актёрам.Но при этом она молодо выглядит! Хотя она довольно ворчливый, сварливый человек, потому что она очень старая.
— Когда вы садитесь писать, у вас есть в голове какая-то миссия?
— Нет, кстати! Мне нравится это событие. Как прикольно, что я его сейчас буду описывать. В случае, допустим, с “Оккульттрегером” это было шестикратное убийство. В случае с “Опосредованно” — влоговские вставки мне очень нравилось писать, но не хотелось людям надоедать с ними. В “Петровых…” тоже было много моментов, с удовольствием написанных, в том числе поход Петрова в детстве в шапито, который пересказывал мой собственный поход в шапито. Это был эпизод, под конец написания которого я понял, что в Екатеринбурге есть стационарный цирк. Там нет необходимости ходить в шапито.
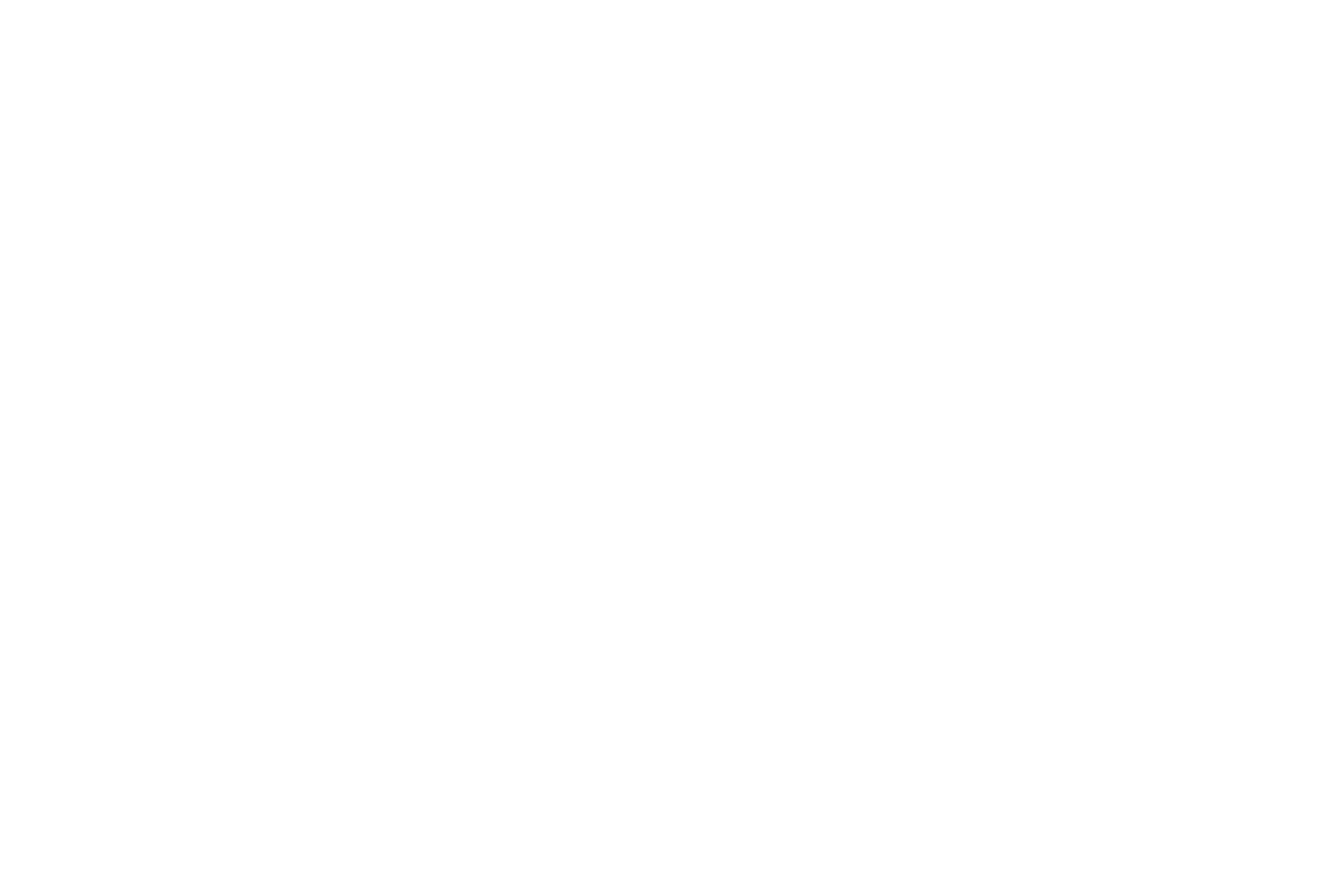
— В ваших произведениях тяжело отличить реальное и ирреальное пространство, особенно в “Петровых в гриппе и вокруг него”. Вы специально так задумывали?
— Я просто пересказываю события из своей головы. Это особенность вообще человеческой психики: не сосредотачиваться на чём-то конкретном. Допустим, идти, отвлекаться, чего-то не замечать, теряться, терять одну мысль, но возвращаться к другим, думать о близких, вспоминать разговоры. Хотелось просто показать жизнь.
— Вы мыслите так же, как Петров?
— Конечно! Мы все так мыслим. Все мы большую часть времени какой-то ерундой заняты. Даже если заняты работой, в голове всё равно идёт поток всякой чуши!
— Вы достаточно редко стали писать стихи…
— Отодвигаюсь на прозу. Иногда они приходят, у меня есть подборка из нескольких стихотворений.
— Вы в каком-то из интервью говорили, что стихи обычно пишут молодые люди. Почему?
— Обычно так происходит. Бродский свои лучшие тексты в молодости написал. Он не так уж долго и прожил, не до восьмидесятилетнего возраста. А он мог бы быть живым..
— Какие вы стихи в молодости писали?
— Совсем в молодости? Абсолютно простые! Это были такие классические школьные стихотворения с сюжетами, как у Асадова. Фэнтези стихи, что-то в этом духе. А потом как-то переклинило, и я перешёл на другой поэтический язык, который мне мил до сих пор.
— Вы очень образованный и начитанный человек…
— Нет! Не так! Есть люди гораздо начитаннее! С начитанностью которых я ничтожество. Мало того, что они начитанные, они помнят, что они читали, авторов и то, про что в этих книгах написано. Я как-то Проппа взял в шестичасовой полёт, “Исторические корни волшебной сказки”. И такой, странице на десятой, вспомнил, что я лет в двадцать это читал уже в каком-то журнале. И стал смотреть в окошко. Так грустно на душе! Просто вспомнил, про что эта книга полностью. А до этого абсолютно не помнил. У меня бессистемное чтение. Я очень неграмотный, более-менее начитанный, что-то там читал, но есть люди гораздо более умные.
— У вас такая же ситуация была с книгой “Москва-Петушки”?
— Да, да! Я выделывался, что я их не читал, а оказалось, читал…
— Вы нашли у себя влияние этой книги?
— Я влияние других текстов находил, уже не помню каких. Даже не текстов, а фильмов. С удивлением обнаружил, уже после выхода книги, что Петров и Петрова живут, как герои “Иронии судьбы…”, потому что они живут в одинаковым квартирах. И книга новогодняя, и фильм новогодний, просто творится в них разное. Но вот какие-то вещи без предварительного обдумывания случайно попали в текст.
— Если бы вам надо было провести литературную систему наследования, в духе “Гоголь - Чехов - Драгунский”, кого бы вы поставили в такой цепочке до себя?
Но он очень токсичный, в плане того, что, когда с его текстом соприкасаешься, начинаются такие же языковые вещи, и их приходится убирать, потому что видно это заимствование.
А заимствование должно быть таким, чтобы оно было не так заметно.
— Сюжеты с Достоевским у вас есть схожие?
— Сейчас назревает литературоведческий спор: некоторые считают, что реальность в ваших произведениях — это ад, другие говорят, что это рай. На мой взгляд, это чистилище. Как вы думаете?
— Когда вы начали изучать мифологию?
— А почему вы их используете в своих произведениях?
По сути дела, очень долгое время античные мифы и библейские истории были сборником мемов.
Тех мемов, которые все понимали. Они были сборниками юмористическими. Ну, не только юмористическими, со всякими такими мудростями. И они были по всей Земле и чем-то объединяли людей. Сейчас людей объединяют другие общие мемы. В моих произведениях это наследование. Оно усложнилось, конечно, но никуда деться не могло.
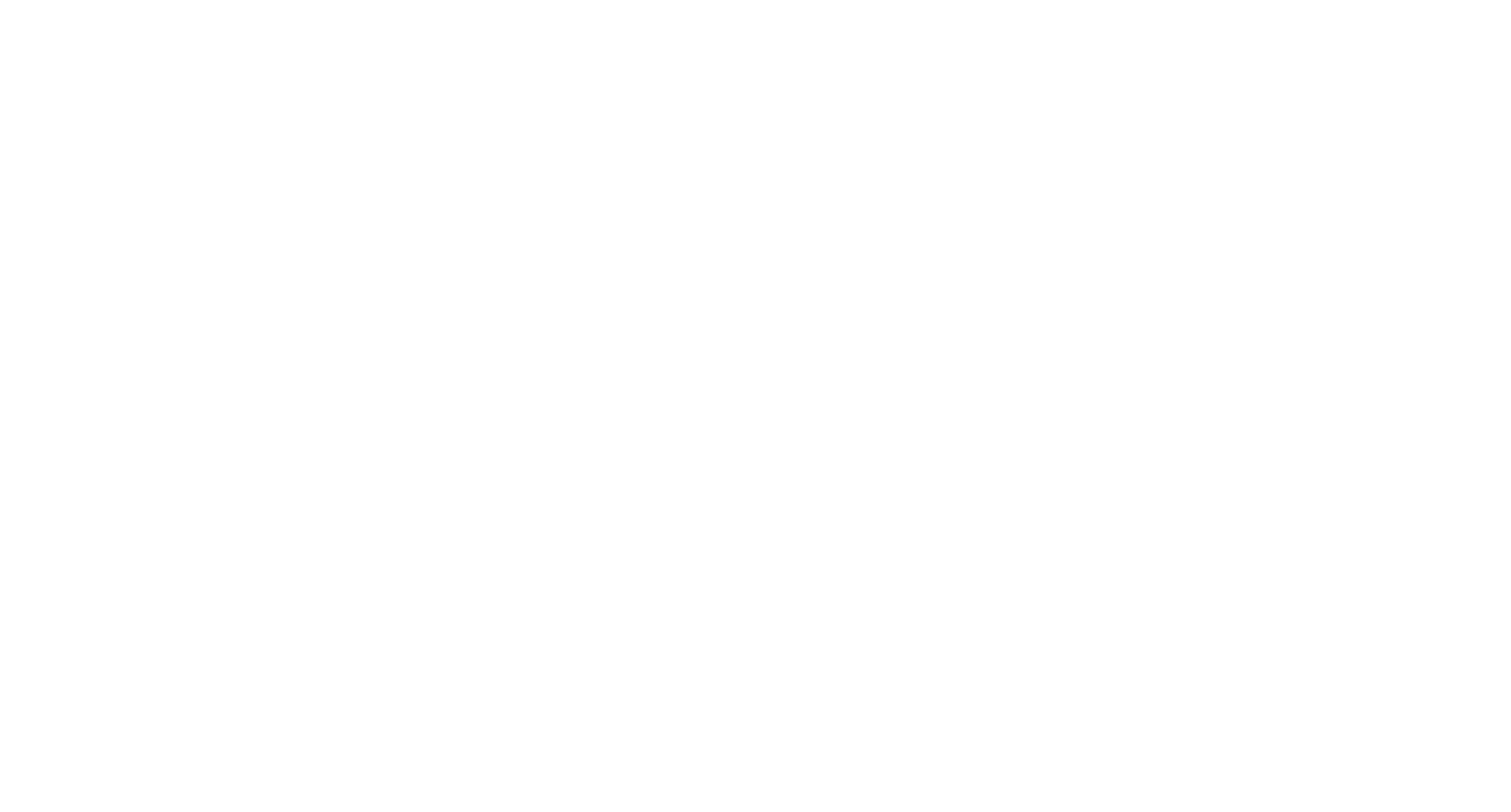
— Вы же это делаете сознательно, напрямую говорите: “Игорь — это Аид”.
— Получается, что бы вы не делали сознательно внутри произведения, вы делаете это, потому что оно забавно?
— Каким вы были в детстве?
— А к подростковому возрасту вы как изменились? Вы стали больше больше литературой увлекаться?
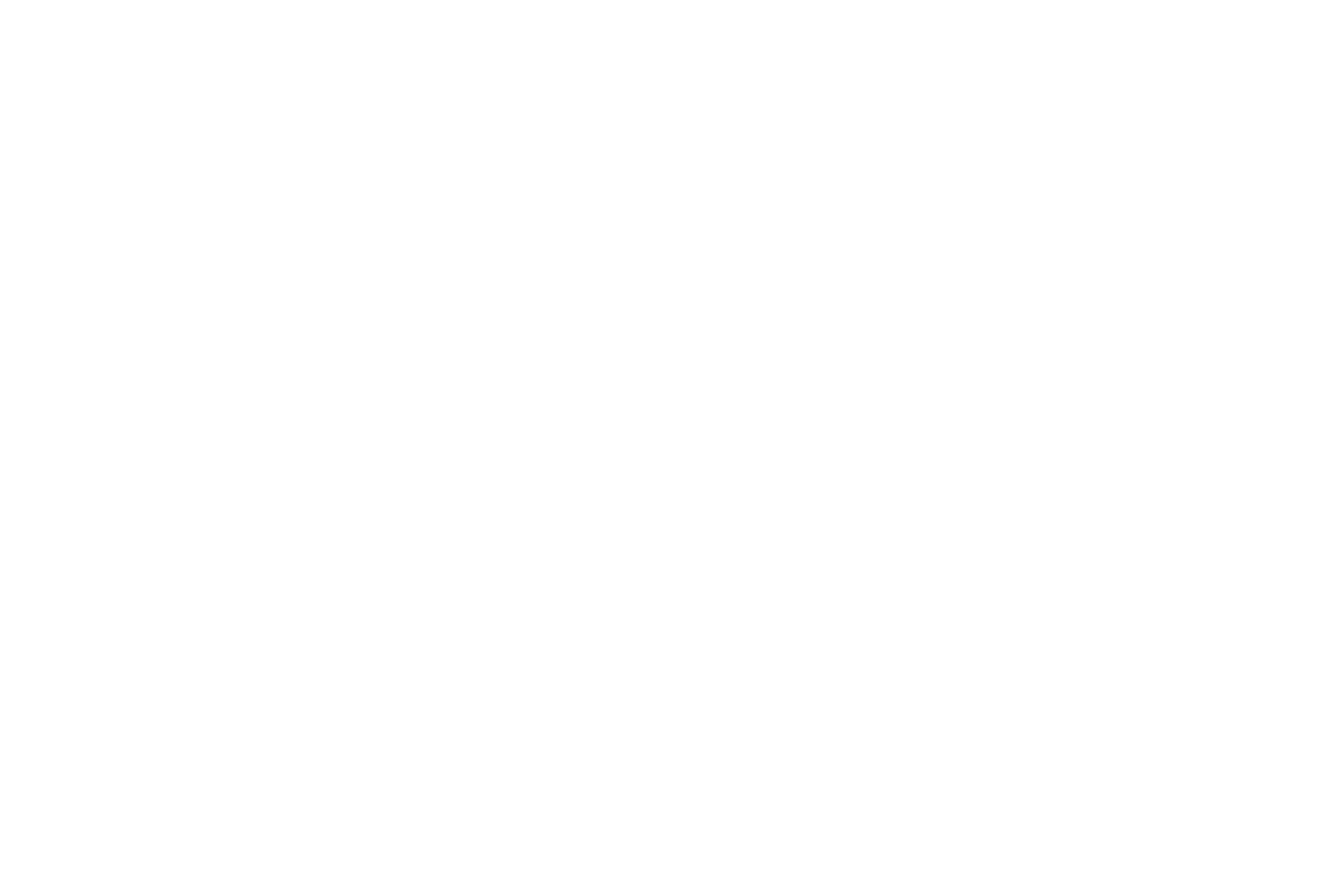
— А во взрослом возрасте как “Мастер и Маргарита” смотрится?
— А Маркиза де Сада вы как в 13 лет прочитали?
— Как он оказался потом в “Петровых”?
— Там был герой, который брал его в библиотеке.
Он как будто откладывает “Камасутру”, грубо говоря, и идёт резать людей в подворотне.
А может, я, кстати, и не ошибался в своих ощущениях. Поэтому я такого придумал персонажа, поехавшего на всю бошку. Ещё в какой-то момент жизни я открыл для себя всякие ресурсы художников. Сначала я себе сохранял картинки на рабочий стол. Пока случайно не открыл функцию J18, что ли. И для меня открылась бездна совершенно отмороженных ублюдков! И подумалось: “Что у людей в голове всё-таки?” Это интересно было писать.
— Кого вы ещё из реальности списали?
— Как вы воспринимаете реальность?
— Вы записываете ситуации в заметки или блокнот?
— Чтобы человеку возродиться, ему нужно упасть на самое дно жизни?